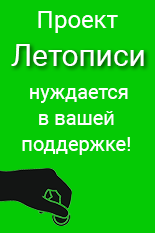Проблемы творчества в произведениях В. М. Шукшина
Это НЕ шаблон, а эссе конкретного автора, это и надо указать в названии, например: Эссе Ивановой Марии Творческая деятельность В.М. Шукшина
| Статью необходимо переименовать- см. Имя статьи |
Творчество всегда было для Шукшина загадкой. Уже в одном из первых рассказов «Воскресная тоска» намечаются вопросы о мотивах творчества: «Почему так сильно — до боли и беспокойства — хочется писать?» Разные ответы находит Шукшин: один пишет стихи, влюбившись («Воскресная тоска»); у другого большое горе — он складывает песню, «чтобы малость полегче стало» («Демагоги»); а иной и вовсе от безделья «… историю колхоза стал писать» («Гена Пройдисвет»).
Начиная с середины 60-х годов человек придумывающий, изобретающий, пишущий, — человек «творческий» все чаще становится героем рассказа Шукшина, вместе с тем характеры «людей творческих» выписываются им все глубже и тщательнее, при этом проблема мотивации творчества не снимается. Шукшин ищет глубинные мотивы творческой деятельности, перебирает и отбрасывает варианты: «О чем же думал тот неведомый мастер, оставляя после себя эту светлую каменную сказку? Бога ли он величал или себя хотел показать?» («Мастер»). Никто не просит и не заставляет изобретать вечный двигатель («Упорный»), думать и писать о государстве («Штрихи к портрету»), вырезать фигурки из дерева («Стенька Разин»); да и пользы от этого, как показывает Шукшин, вроде бы нет никакой, одни неприятности и обиды.
Творческая деятельность несколько идеализируется Шукшиным. Творческая личность удивляет и восхищает Шукшина. Он полагает, что тщеславие, зависть, жадность, корысть и т. п. не могут быть движущими силами творчества. Художник не начинает книгу с дурными намерениями; действительно, художник хочет заработать деньги — они нужны ему, но не из-за денег он творит («Нравственность есть правда»). Тот, кто хочет себя показать, не забирается далеко, а «норовит поближе к большим дорогам или вовсе — на людскую площадь, там заметят» («Мастер»). Конечно, творчество для шукшинских героев — это и путь самоутверждения, и способ манифестации собственной значимости, и демонстрация собственных способностей, но все это второстепенно и не определяет сути творчества. У Мони Квасова («Упорный») ощущение «собственного величия» и «огромности» сделанного изобретения возникает только после рождения и оформления идеи. Случается и иначе: вначале — единственно желание показать себя, только мечты и планы («И разгулялись же кони в поле», «Шире шаг, маэстро!»). Но не выходит ничего из мечтаний, и «неосознанный акт творчества» гаснет, так и не начавшись. Константин Смородин («Пьедестал») «творит» из жажды славы и признания. «Смородину же очень хотелось „взорваться“ — чтобы о нем заговорили, заговорили о его картинах, рисунках…». Но одного честолюбия оказывается недостаточно; творчество, порожденное тщеславием, иллюзорно; для настоящего творчества необходимо еще что-то, непонятное, ускользающее, таинственное.
Творчество, полагает Шукшин, есть один из способов раскрытия правды своего времени; показать правду, как и красоту, может только талантливый человек. «Человек умный и талантливый как-нибудь, да найдет способ выявить правду … иначе она его замучает, иначе, как ему кажется, жизнь пройдет впустую… совершенно точно отразит свое время (в песне, в поступке, в тоске, в романе), быть может, сам того не поймет, но откроет глаза мыслящим и умным» («Нравственность есть правда»). Красота и правда, подобно неведомой и могущественной силе, необходимо заставляют человека творить. Творчество — это необходимость рассказать и показать то, что знаешь, и что само просится наружу.
Творчество для Шукшина настолько священно и таинственно, что он сомневается в своем праве творить и задает вопрос, который будет задавать себе всю жизнь («А что я такое знаю, чего не знают другие, и что дает мне право рассказывать? Я знаю, как бывает в степи ранним летним утром: зеленый тихий рассвет. В низинах легкий, как дыхание, туман. Тихо. Можно лечь лицом в пахучую влажную траву, обнять землю и слушать, как в ее груди глубоко шевелится огромное сердце. Многое понимаешь в такие минуты…» («Воскресная тоска»). Право на творчество дает понятое и прочувствованное «многое», а знание, которое лишь помогает это «многое» понять. Почти эротичный характер приведенного фрагмента позволяет предположить, что «многое» — это любовь: любовь к матери-природе, к матери-земле, к людям, на земле живущим. Любовь оказывается движущей силой творчества. Действительно, «творческие герои» Шукшина любят: Моня Квасов, упрямо изобретающий вечный двигатель, любит людей, хотя знает, что они смеются над его упрямством («Упорный»). У Васеки, часами работающего над фигуркой Разина, «перехватывало горло от любви и горя … Он любил свои родные края, горы свои, Захарыча, мать … всех людей. И любовь эта жгла и мучила — просилась из груди. И не понимал Васека, что нужно сделать для людей. Чтобы успокоиться» («Стенька Разин»). Нет творчества без любви, как «нет писателя без искренней тревожной думы о человеке, о добре, о зле, о красоте…» («Как я понимаю рассказ»).(Творчество В.М. Шукшина. Энциклопедический словарь-справочник. Барнаул, 1997.)
Творчество всегда было для Шукшина загадкой. Уже в одном из первых рассказов «Воскресная тоска» намечаются вопросы о мотивах творчества: «Почему так сильно — до боли и беспокойства — хочется писать?» Разные ответы находит Шукшин: один пишет стихи, влюбившись («Воскресная тоска»); у другого большое горе — он складывает песню, «чтобы малость полегче стало» («Демагоги»); а иной и вовсе от безделья «… историю колхоза стал писать» («Гена Пройдисвет»).
Начиная с середины 60-х годов человек придумывающий, изобретающий, пишущий, — человек «творческий» все чаще становится героем рассказа Шукшина, вместе с тем характеры «людей творческих» выписываются им все глубже и тщательнее, при этом проблема мотивации творчества не снимается. Шукшин ищет глубинные мотивы творческой деятельности, перебирает и отбрасывает варианты: «О чем же думал тот неведомый мастер, оставляя после себя эту светлую каменную сказку? Бога ли он величал или себя хотел показать?» («Мастер»). Никто не просит и не заставляет изобретать вечный двигатель («Упорный»), думать и писать о государстве («Штрихи к портрету»), вырезать фигурки из дерева («Стенька Разин»); да и пользы от этого, как показывает Шукшин, вроде бы нет никакой, одни неприятности и обиды.
Творческая деятельность несколько идеализируется Шукшиным. Творческая личность удивляет и восхищает Шукшина. Он полагает, что тщеславие, зависть, жадность, корысть и т. п. не могут быть движущими силами творчества. Художник не начинает книгу с дурными намерениями; действительно, художник хочет заработать деньги — они нужны ему, но не из-за денег он творит («Нравственность есть правда»). Тот, кто хочет себя показать, не забирается далеко, а «норовит поближе к большим дорогам или вовсе — на людскую площадь, там заметят» («Мастер»). Конечно, творчество для шукшинских героев — это и путь самоутверждения, и способ манифестации собственной значимости, и демонстрация собственных способностей, но все это второстепенно и не определяет сути творчества. У Мони Квасова («Упорный») ощущение «собственного величия» и «огромности» сделанного изобретения возникает только после рождения и оформления идеи. Случается и иначе: вначале — единственно желание показать себя, только мечты и планы («И разгулялись же кони в поле», «Шире шаг, маэстро!»). Но не выходит ничего из мечтаний, и «неосознанный акт творчества» гаснет, так и не начавшись. Константин Смородин («Пьедестал») «творит» из жажды славы и признания. «Смородину же очень хотелось „взорваться“ — чтобы о нем заговорили, заговорили о его картинах, рисунках…». Но одного честолюбия оказывается недостаточно; творчество, порожденное тщеславием, иллюзорно; для настоящего творчества необходимо еще что-то, непонятное, ускользающее, таинственное.
Творчество, полагает Шукшин, есть один из способов раскрытия правды своего времени; показать правду, как и красоту, может только талантливый человек. «Человек умный и талантливый как-нибудь, да найдет способ выявить правду … иначе она его замучает, иначе, как ему кажется, жизнь пройдет впустую… совершенно точно отразит свое время (в песне, в поступке, в тоске, в романе), быть может, сам того не поймет, но откроет глаза мыслящим и умным» («Нравственность есть правда»). Красота и правда, подобно неведомой и могущественной силе, необходимо заставляют человека творить. Творчество — это необходимость рассказать и показать то, что знаешь, и что само просится наружу.
Творчество для Шукшина настолько священно и таинственно, что он сомневается в своем праве творить и задает вопрос, который будет задавать себе всю жизнь («А что я такое знаю, чего не знают другие, и что дает мне право рассказывать? Я знаю, как бывает в степи ранним летним утром: зеленый тихий рассвет. В низинах легкий, как дыхание, туман. Тихо. Можно лечь лицом в пахучую влажную траву, обнять землю и слушать, как в ее груди глубоко шевелится огромное сердце. Многое понимаешь в такие минуты…» («Воскресная тоска»). Право на творчество дает понятое и прочувствованное «многое», а знание, которое лишь помогает это «многое» понять. Почти эротичный характер приведенного фрагмента позволяет предположить, что «многое» — это любовь: любовь к матери-природе, к матери-земле, к людям, на земле живущим. Любовь оказывается движущей силой творчества. Действительно, «творческие герои» Шукшина любят: Моня Квасов, упрямо изобретающий вечный двигатель, любит людей, хотя знает, что они смеются над его упрямством («Упорный»). У Васеки, часами работающего над фигуркой Разина, «перехватывало горло от любви и горя … Он любил свои родные края, горы свои, Захарыча, мать … всех людей. И любовь эта жгла и мучила — просилась из груди. И не понимал Васека, что нужно сделать для людей. Чтобы успокоиться» («Стенька Разин»). Нет творчества без любви, как «нет писателя без искренней тревожной думы о человеке, о добре, о зле, о красоте…» («Как я понимаю рассказ»).(Творчество В.М. Шукшина. Энциклопедический словарь-справочник. Барнаул, 1997.) Творчество всегда было для Шукшина загадкой. Уже в одном из первых рассказов «Воскресная тоска» намечаются вопросы о мотивах творчества: «Почему так сильно — до боли и беспокойства — хочется писать?» Разные ответы находит Шукшин: один пишет стихи, влюбившись («Воскресная тоска»); у другого большое горе — он складывает песню, «чтобы малость полегче стало» («Демагоги»); а иной и вовсе от безделья «… историю колхоза стал писать» («Гена Пройдисвет»).
Начиная с середины 60-х годов человек придумывающий, изобретающий, пишущий, — человек «творческий» все чаще становится героем рассказа Шукшина, вместе с тем характеры «людей творческих» выписываются им все глубже и тщательнее, при этом проблема мотивации творчества не снимается. Шукшин ищет глубинные мотивы творческой деятельности, перебирает и отбрасывает варианты: «О чем же думал тот неведомый мастер, оставляя после себя эту светлую каменную сказку? Бога ли он величал или себя хотел показать?» («Мастер»). Никто не просит и не заставляет изобретать вечный двигатель («Упорный»), думать и писать о государстве («Штрихи к портрету»), вырезать фигурки из дерева («Стенька Разин»); да и пользы от этого, как показывает Шукшин, вроде бы нет никакой, одни неприятности и обиды.
Творческая деятельность несколько идеализируется Шукшиным. Творческая личность удивляет и восхищает Шукшина. Он полагает, что тщеславие, зависть, жадность, корысть и т. п. не могут быть движущими силами творчества. Художник не начинает книгу с дурными намерениями; действительно, художник хочет заработать деньги — они нужны ему, но не из-за денег он творит («Нравственность есть правда»). Тот, кто хочет себя показать, не забирается далеко, а «норовит поближе к большим дорогам или вовсе — на людскую площадь, там заметят» («Мастер»). Конечно, творчество для шукшинских героев — это и путь самоутверждения, и способ манифестации собственной значимости, и демонстрация собственных способностей, но все это второстепенно и не определяет сути творчества. У Мони Квасова («Упорный») ощущение «собственного величия» и «огромности» сделанного изобретения возникает только после рождения и оформления идеи. Случается и иначе: вначале — единственно желание показать себя, только мечты и планы («И разгулялись же кони в поле», «Шире шаг, маэстро!»). Но не выходит ничего из мечтаний, и «неосознанный акт творчества» гаснет, так и не начавшись. Константин Смородин («Пьедестал») «творит» из жажды славы и признания. «Смородину же очень хотелось „взорваться“ — чтобы о нем заговорили, заговорили о его картинах, рисунках…». Но одного честолюбия оказывается недостаточно; творчество, порожденное тщеславием, иллюзорно; для настоящего творчества необходимо еще что-то, непонятное, ускользающее, таинственное.
Творчество, полагает Шукшин, есть один из способов раскрытия правды своего времени; показать правду, как и красоту, может только талантливый человек. «Человек умный и талантливый как-нибудь, да найдет способ выявить правду … иначе она его замучает, иначе, как ему кажется, жизнь пройдет впустую… совершенно точно отразит свое время (в песне, в поступке, в тоске, в романе), быть может, сам того не поймет, но откроет глаза мыслящим и умным» («Нравственность есть правда»). Красота и правда, подобно неведомой и могущественной силе, необходимо заставляют человека творить. Творчество — это необходимость рассказать и показать то, что знаешь, и что само просится наружу.
Творчество для Шукшина настолько священно и таинственно, что он сомневается в своем праве творить и задает вопрос, который будет задавать себе всю жизнь («А что я такое знаю, чего не знают другие, и что дает мне право рассказывать? Я знаю, как бывает в степи ранним летним утром: зеленый тихий рассвет. В низинах легкий, как дыхание, туман. Тихо. Можно лечь лицом в пахучую влажную траву, обнять землю и слушать, как в ее груди глубоко шевелится огромное сердце. Многое понимаешь в такие минуты…» («Воскресная тоска»). Право на творчество дает понятое и прочувствованное «многое», а знание, которое лишь помогает это «многое» понять. Почти эротичный характер приведенного фрагмента позволяет предположить, что «многое» — это любовь: любовь к матери-природе, к матери-земле, к людям, на земле живущим. Любовь оказывается движущей силой творчества. Действительно, «творческие герои» Шукшина любят: Моня Квасов, упрямо изобретающий вечный двигатель, любит людей, хотя знает, что они смеются над его упрямством («Упорный»). У Васеки, часами работающего над фигуркой Разина, «перехватывало горло от любви и горя … Он любил свои родные края, горы свои, Захарыча, мать … всех людей. И любовь эта жгла и мучила — просилась из груди. И не понимал Васека, что нужно сделать для людей. Чтобы успокоиться» («Стенька Разин»). Нет творчества без любви, как «нет писателя без искренней тревожной думы о человеке, о добре, о зле, о красоте…» («Как я понимаю рассказ»).(Творчество В.М. Шукшина. Энциклопедический словарь-справочник. Барнаул, 1997.)